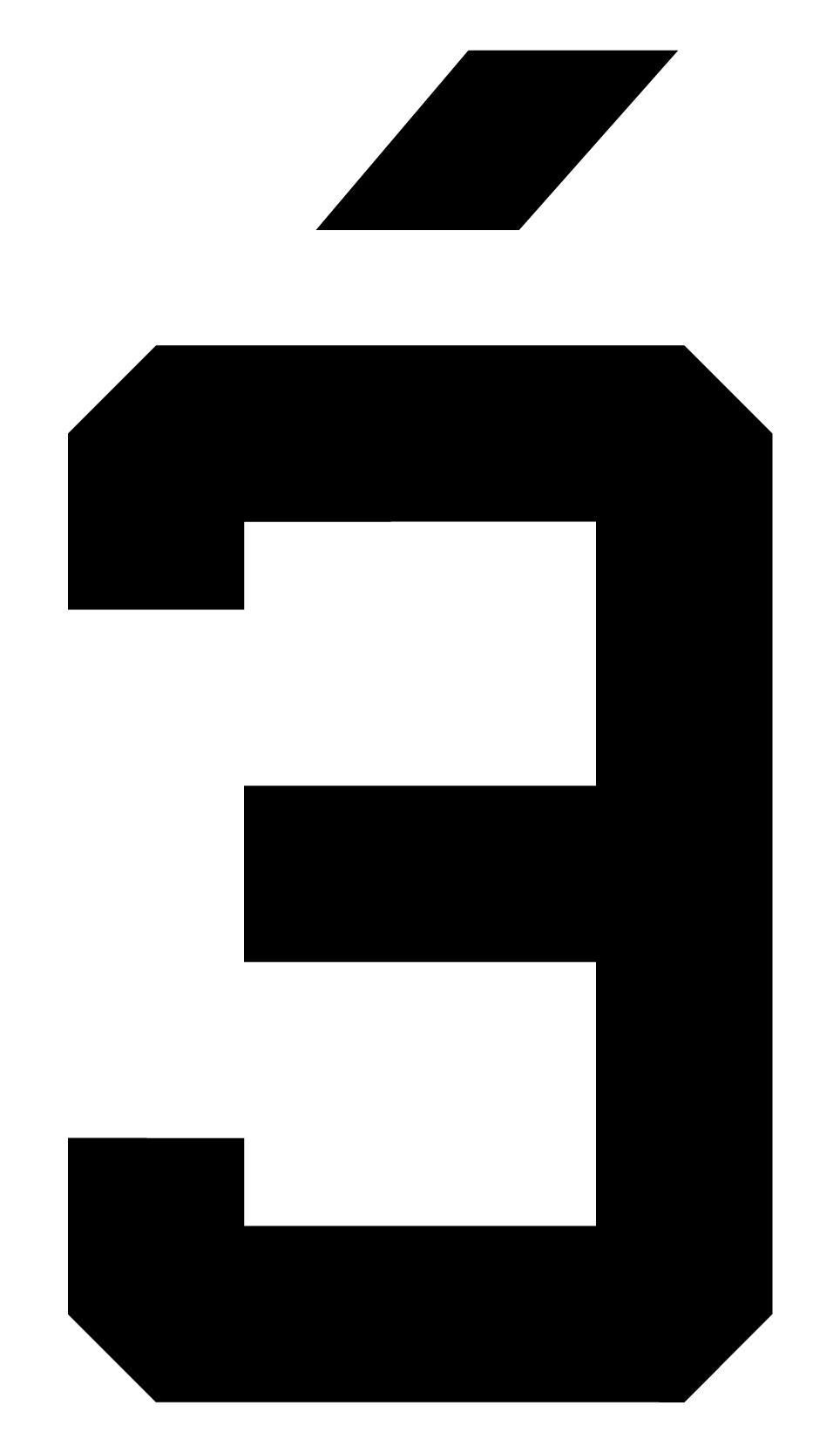САКЕН
НАРЫНОВ
НАРЫНОВ
Сакен Жомартович Нарынов – казахстанский архитектор, профессор КазГАСА. В 1970-м году окончил архитектурный факультет Казахского политехнического института. С 1976-го по 1987-й – преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Алма-Атинского архитектурно-строительного института. Автор пяти изобретений и 34-х научных статей, опубликованных в отечественной и зарубежной печати; создал более 80 проектных разработок в различных областях архитектуры, строительства, прикладной геометрии и топологии, промышленного дизайна; создатель и руководитель лаборатории проектного прогнозирования Союза дизайнеров Казахстана (мастерская Сакена Нарынова «Копкырлы» («Многогранный»). Наравне с Норманном Фостером Сакен Нарынов вошел в двадцатку лучших архитекторов мира в 2009-м году. Команда Étage поговорила с Сакеном Жомартовичем об архитектуре, изобретениях и педагогике.
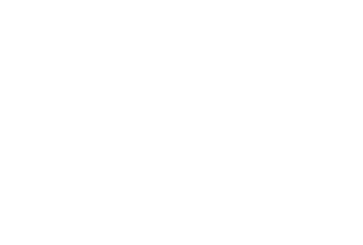
Сакен Нарынов
Сакен Жомартович Нарынов – казахстанский архитектор, профессор КазГАСА. В 1970-м году окончил архитектурный факультет Казахского политехнического института. С 1976-го по 1987-й – преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Алма-Атинского архитектурно-строительного института. Автор пяти изобретений и 34-х научных статей, опубликованных в отечественной и зарубежной печати; создал более 80 проектных разработок в различных областях архитектуры, строительства, прикладной геометрии и топологии, промышленного дизайна; создатель и руководитель лаборатории проектного прогнозирования Союза дизайнеров Казахстана (мастерская Сакена Нарынова «Копкырлы» («Многогранный»). Наравне с Норманном Фостером Сакен Нарынов вошел в двадцатку лучших архитекторов мира в 2009-м году. Команда Étage поговорила с Сакеном Жомартовичем об архитектуре, изобретениях и педагогике.
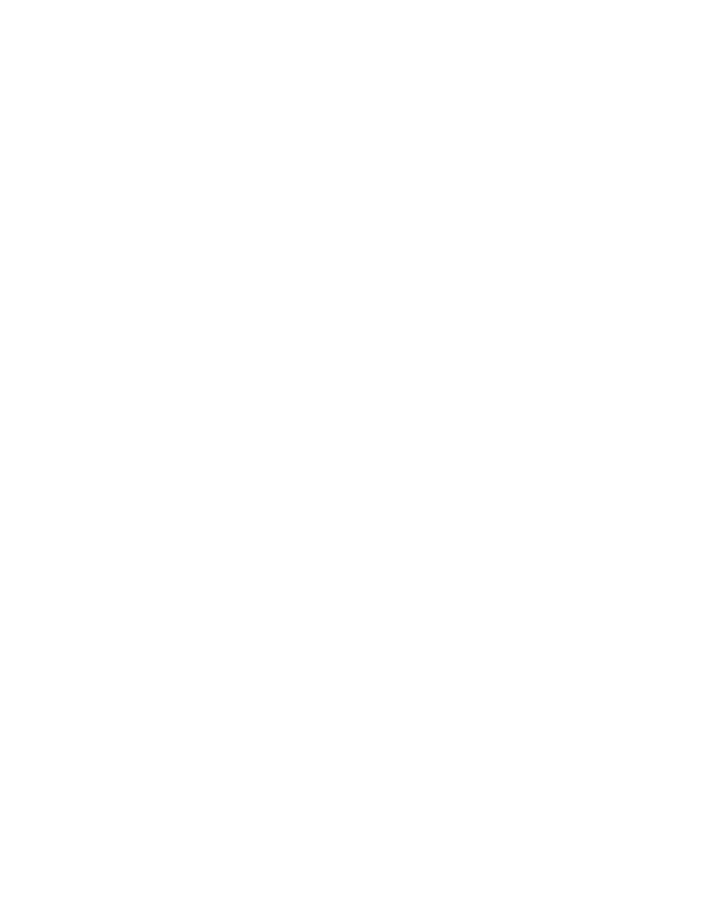
«Параллельные миры», 2001, металл
– Расскажите, как вы стали архитектором?
– Я закончил архитектурный факультет Казахского политехнического института в 1970 году. Вы знаете, в годы репрессий и во время Великой Отечественной войны в Казахстан переселились множество преподавателей, архитекторов, художников и других специалистов из Москвы; это были очень порядочные люди, интеллигенты, некоторые даже из царской семьи – мне в этом отношении очень повезло. Учился я неплохо, можно сказать, страстно. Некоторые предметы любил особенно. Была некая во мне страсть, которая помогла в последующем. Думаю, что любовь, страсть помогают добиться многого. Я не скажу, что многого добился, но многое познал: встречался со многими учеными в Ленинграде и в Москве, ходил к Гумилеву, встречался с Виденом Артавадзовичем Геодакяном – основоположником симметрии полов. Он изучал женщину и мужчину, чем они отличаются друг от друга, чем отличается самка от самца. Я узнал потрясающие вещи, просто удивительные. Геодакян экспериментировал с коловратками – это такие многоклеточные животные, и все особи этого вида имеют женский пол, но способны изменять свой генетически код, меняя все половые признаки. Ученый перенес коловраток из одного пруда в другой, и через какое-то время в новом пруду появились самцы. Потом через какое-то время самцы опять исчезли, и остались одни самки. И он задался вопросом, почему так происходит. Он сделал вывод, что самцы отвечают за разведку, эксперименты и что-то новое, а потом эту информацию передают самкам. Самки благодаря этой информации начинают держаться ближе к берегу, на солнце и там, где благоприятно. Благодаря этим наблюдениям была разгадана загадка рождения мальчиков в годы войны. Геодакян сказал мне, что гении рождаются в самцах, а самки более стабильны. Но также среди мужчин больше идиотов.
– А вам различия полов с какой точки зрения стали интересны?
– С точки зрения смены стилей: в художественной культуре есть стиль пионерный, а есть традиционный. В пионерном стиле мы видим конструктивизм, а в традиционном – классицизм. Женский пол более правополушарен, а мужской более левополушарен. Мужчины действуют разумом, а женщины интуицией и чутьем. Женский пол более честный, потому что создает генофонд.
– Вас давно заинтересовала эта тема?
– Да, очень давно. Я даже планирую сделать выставку, которая будет называться «12 документов любви». Я хотел бы раскрыть тему любви. И конечно, пространство и время меня интересуют. В апреле открылась моя выставка в музее в Астане: «То, что было вначале».
– Я закончил архитектурный факультет Казахского политехнического института в 1970 году. Вы знаете, в годы репрессий и во время Великой Отечественной войны в Казахстан переселились множество преподавателей, архитекторов, художников и других специалистов из Москвы; это были очень порядочные люди, интеллигенты, некоторые даже из царской семьи – мне в этом отношении очень повезло. Учился я неплохо, можно сказать, страстно. Некоторые предметы любил особенно. Была некая во мне страсть, которая помогла в последующем. Думаю, что любовь, страсть помогают добиться многого. Я не скажу, что многого добился, но многое познал: встречался со многими учеными в Ленинграде и в Москве, ходил к Гумилеву, встречался с Виденом Артавадзовичем Геодакяном – основоположником симметрии полов. Он изучал женщину и мужчину, чем они отличаются друг от друга, чем отличается самка от самца. Я узнал потрясающие вещи, просто удивительные. Геодакян экспериментировал с коловратками – это такие многоклеточные животные, и все особи этого вида имеют женский пол, но способны изменять свой генетически код, меняя все половые признаки. Ученый перенес коловраток из одного пруда в другой, и через какое-то время в новом пруду появились самцы. Потом через какое-то время самцы опять исчезли, и остались одни самки. И он задался вопросом, почему так происходит. Он сделал вывод, что самцы отвечают за разведку, эксперименты и что-то новое, а потом эту информацию передают самкам. Самки благодаря этой информации начинают держаться ближе к берегу, на солнце и там, где благоприятно. Благодаря этим наблюдениям была разгадана загадка рождения мальчиков в годы войны. Геодакян сказал мне, что гении рождаются в самцах, а самки более стабильны. Но также среди мужчин больше идиотов.
– А вам различия полов с какой точки зрения стали интересны?
– С точки зрения смены стилей: в художественной культуре есть стиль пионерный, а есть традиционный. В пионерном стиле мы видим конструктивизм, а в традиционном – классицизм. Женский пол более правополушарен, а мужской более левополушарен. Мужчины действуют разумом, а женщины интуицией и чутьем. Женский пол более честный, потому что создает генофонд.
– Вас давно заинтересовала эта тема?
– Да, очень давно. Я даже планирую сделать выставку, которая будет называться «12 документов любви». Я хотел бы раскрыть тему любви. И конечно, пространство и время меня интересуют. В апреле открылась моя выставка в музее в Астане: «То, что было вначале».
«Шесть жизней одной души», 90-е, металл
«Конец начала или начало конца», 2001, металл
«Кротовы норы», 2003, металл
«Из ничего образовалось все: материальная субстанция, духовная субстанция. Вот эти две темы меня волнуют: человек и Вселенная.»
«Из ничего образовалось все: материальная субстанция, духовная субстанция. Вот эти две темы меня волнуют: человек и Вселенная.»
– Что у вас было вначале?
– Вначале было вещество меньше бозона Хиггса, потом оно в какой-то момент взорвалось и образовалось все. Это уму непостижимо! Меньше миллиметра – и в триллион раз, это нечто! Из ничего образовалось все: материальная субстанция, духовная субстанция. Вот эти две темы меня волнуют: человек и Вселенная. Я ухватился за самые большие темы (смеется).
– Когда вы окончили университет, чем занимались?
– Советская система была жесткая, упорядоченная, нормированная и дала мне базовые, фундаментальные знания. Вообще, я считаю, что нужно людей учить больше абстрактным наукам, например, преподавали бы на первый взгляд ненужную для архитекторов историю этносов или историю полов, топологию… Сейчас архитекторы изучают точные науки, но результаты их трудов не всегда художественные.
После учебы я год работал архитектором. Потом убежал в реставрацию, в экспедицию на Мангышлак. Там мы работали над архитектурой младшего жуза, совершенно удивительной по своей первобытности, открытой во всех отношениях, не лицемерной.
Я работал преподавателем истории архитектуры в техникуме, сам изучил ее, и это мне очень помогло. Позже поступил в аспирантуру, мне повезло, я взял хорошую тему. Тогда увлекся и стал изучать право- и левополушарное мышление у Вячеслава Всеволодовича Иванова, который впервые сказал, что в культуре рациональный стиль заменяется эмоциональным и получается циклическая закономерность, как день и ночь. В какой-то период мужчины начинают мыслить как женщины и наоборот, смены периодов становятся короче, и смена идет очень быстро.
В аспирантуре я взял тему «Мобильное жилище» – увлекся юртами, ими восхищались все, и Корбюзье в том числе. А потом я стал изобретателем. В 30 лет получил первый патент на свое первое изобретение и радовался как ребенок.
– А что это было?
– Это было разъёмно-жесткое соединение труб. Потом был мобильно-объемный блок Нарынова, потом я сделал две-три головоломки. Сейчас не делаю этого, потому что мы должны платить деньги, чтобы получить патент, около 80 000 тенге, это дорого. Это отбивает охоту изобретать. А в Советском Союзе за изобретение мне платили.
После аспирантуры я стал преподавать, но не защитился. Но поскольку знания были емкие, читал лекции. Позже, когда я был уже профессором, стал работать один, но денег зарабатывал мало. Пришлось работать, и дошло до того, что делал трафареты для автомобильных госномеров, потом устроился сторожем на выставке. А в голове были другие мысли. Я не говорю, что удачлив, но кое-что у меня получилось. Я работал много, набрал людей, и на склоне лет решил создать музей своих работ. Мне еще требуются деньги, чтобы закончить отделку музея и открыть его, я бы хотел выставить все свои работы. Мне это нужно. А когда что-то очень нужно мне, это становится нужно и другим.
– Вначале было вещество меньше бозона Хиггса, потом оно в какой-то момент взорвалось и образовалось все. Это уму непостижимо! Меньше миллиметра – и в триллион раз, это нечто! Из ничего образовалось все: материальная субстанция, духовная субстанция. Вот эти две темы меня волнуют: человек и Вселенная. Я ухватился за самые большие темы (смеется).
– Когда вы окончили университет, чем занимались?
– Советская система была жесткая, упорядоченная, нормированная и дала мне базовые, фундаментальные знания. Вообще, я считаю, что нужно людей учить больше абстрактным наукам, например, преподавали бы на первый взгляд ненужную для архитекторов историю этносов или историю полов, топологию… Сейчас архитекторы изучают точные науки, но результаты их трудов не всегда художественные.
После учебы я год работал архитектором. Потом убежал в реставрацию, в экспедицию на Мангышлак. Там мы работали над архитектурой младшего жуза, совершенно удивительной по своей первобытности, открытой во всех отношениях, не лицемерной.
Я работал преподавателем истории архитектуры в техникуме, сам изучил ее, и это мне очень помогло. Позже поступил в аспирантуру, мне повезло, я взял хорошую тему. Тогда увлекся и стал изучать право- и левополушарное мышление у Вячеслава Всеволодовича Иванова, который впервые сказал, что в культуре рациональный стиль заменяется эмоциональным и получается циклическая закономерность, как день и ночь. В какой-то период мужчины начинают мыслить как женщины и наоборот, смены периодов становятся короче, и смена идет очень быстро.
В аспирантуре я взял тему «Мобильное жилище» – увлекся юртами, ими восхищались все, и Корбюзье в том числе. А потом я стал изобретателем. В 30 лет получил первый патент на свое первое изобретение и радовался как ребенок.
– А что это было?
– Это было разъёмно-жесткое соединение труб. Потом был мобильно-объемный блок Нарынова, потом я сделал две-три головоломки. Сейчас не делаю этого, потому что мы должны платить деньги, чтобы получить патент, около 80 000 тенге, это дорого. Это отбивает охоту изобретать. А в Советском Союзе за изобретение мне платили.
После аспирантуры я стал преподавать, но не защитился. Но поскольку знания были емкие, читал лекции. Позже, когда я был уже профессором, стал работать один, но денег зарабатывал мало. Пришлось работать, и дошло до того, что делал трафареты для автомобильных госномеров, потом устроился сторожем на выставке. А в голове были другие мысли. Я не говорю, что удачлив, но кое-что у меня получилось. Я работал много, набрал людей, и на склоне лет решил создать музей своих работ. Мне еще требуются деньги, чтобы закончить отделку музея и открыть его, я бы хотел выставить все свои работы. Мне это нужно. А когда что-то очень нужно мне, это становится нужно и другим.
«У меня была интересная переписка с учеником Альберта Эйнштейна Мартином Гарднером около 20 лет назад. Лет 5 назад он скончался, но писал мне при жизни так: Вы взглянули так далеко, как никто другой.»
«У меня была интересная переписка с учеником Альберта Эйнштейна Мартином Гарднером около 20 лет назад. Лет 5 назад он скончался, но писал мне при жизни так: Вы взглянули так далеко, как никто другой.»
– Мы знаем, что у вас есть удивительная история переписки с выдающимися учеными. Расскажите об этом, пожалуйста.
– Я написал письмо Стивену Хокингу лет десять назад, он ответил достаточно односложно, а после стала отвечать его ассистент. Но у меня была интересная переписка с учеником Альберта Эйнштейна Мартином Гарднером около 20 лет назад. Лет 5 назад он скончался, но писал мне при жизни так: «Вы взглянули так далеко, как никто другой».
– Я написал письмо Стивену Хокингу лет десять назад, он ответил достаточно односложно, а после стала отвечать его ассистент. Но у меня была интересная переписка с учеником Альберта Эйнштейна Мартином Гарднером около 20 лет назад. Лет 5 назад он скончался, но писал мне при жизни так: «Вы взглянули так далеко, как никто другой».
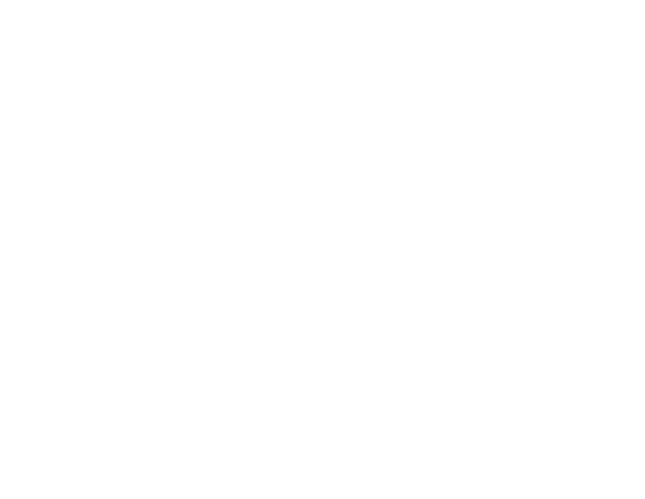
– Такие письма вас вдохновляют?
– Конечно, ведь иногда бывает ощущение, что работаешь вслепую. В мире проблемой пространства и времени занимаются немногие. Я знаю российского ученого Вячеслава Всеволодовича Калищука, он написал книгу «Геометрия космоса», очень интересный ученый. Прекрасный художник Мауриц Эшер мне тоже очень нравится, он занимался этими вещами на плоскости, в графике, у него присутствует и лента Мебиуса в разных вещах, и бутылка Кляйна.
– Вы работали с другими архитекторами?
– В разные периоды я работал с Александром Трощинским, БолатомКенысбаем, Баймуханом Сулейменовым, Ержаном Байжумаевым, Анатолием Пряником, Дастаном Кожабековым и многими другими интересными архитекторами и художниками.
– Вам нравилось преподавать?
– Да, в начале, когда я мог доносить знания. Но это очень трудно, так как много разных характеров, и у всех разные желания. Тех, кто хочет что-то узнать, не так много. Я до сих пор иногда безвозмездно читаю лекции в КазГАСА, в политехе на архитектурном факультете, в строительном колледже. É
– Конечно, ведь иногда бывает ощущение, что работаешь вслепую. В мире проблемой пространства и времени занимаются немногие. Я знаю российского ученого Вячеслава Всеволодовича Калищука, он написал книгу «Геометрия космоса», очень интересный ученый. Прекрасный художник Мауриц Эшер мне тоже очень нравится, он занимался этими вещами на плоскости, в графике, у него присутствует и лента Мебиуса в разных вещах, и бутылка Кляйна.
– Вы работали с другими архитекторами?
– В разные периоды я работал с Александром Трощинским, БолатомКенысбаем, Баймуханом Сулейменовым, Ержаном Байжумаевым, Анатолием Пряником, Дастаном Кожабековым и многими другими интересными архитекторами и художниками.
– Вам нравилось преподавать?
– Да, в начале, когда я мог доносить знания. Но это очень трудно, так как много разных характеров, и у всех разные желания. Тех, кто хочет что-то узнать, не так много. Я до сих пор иногда безвозмездно читаю лекции в КазГАСА, в политехе на архитектурном факультете, в строительном колледже. É
Интервью: Étage Magazine