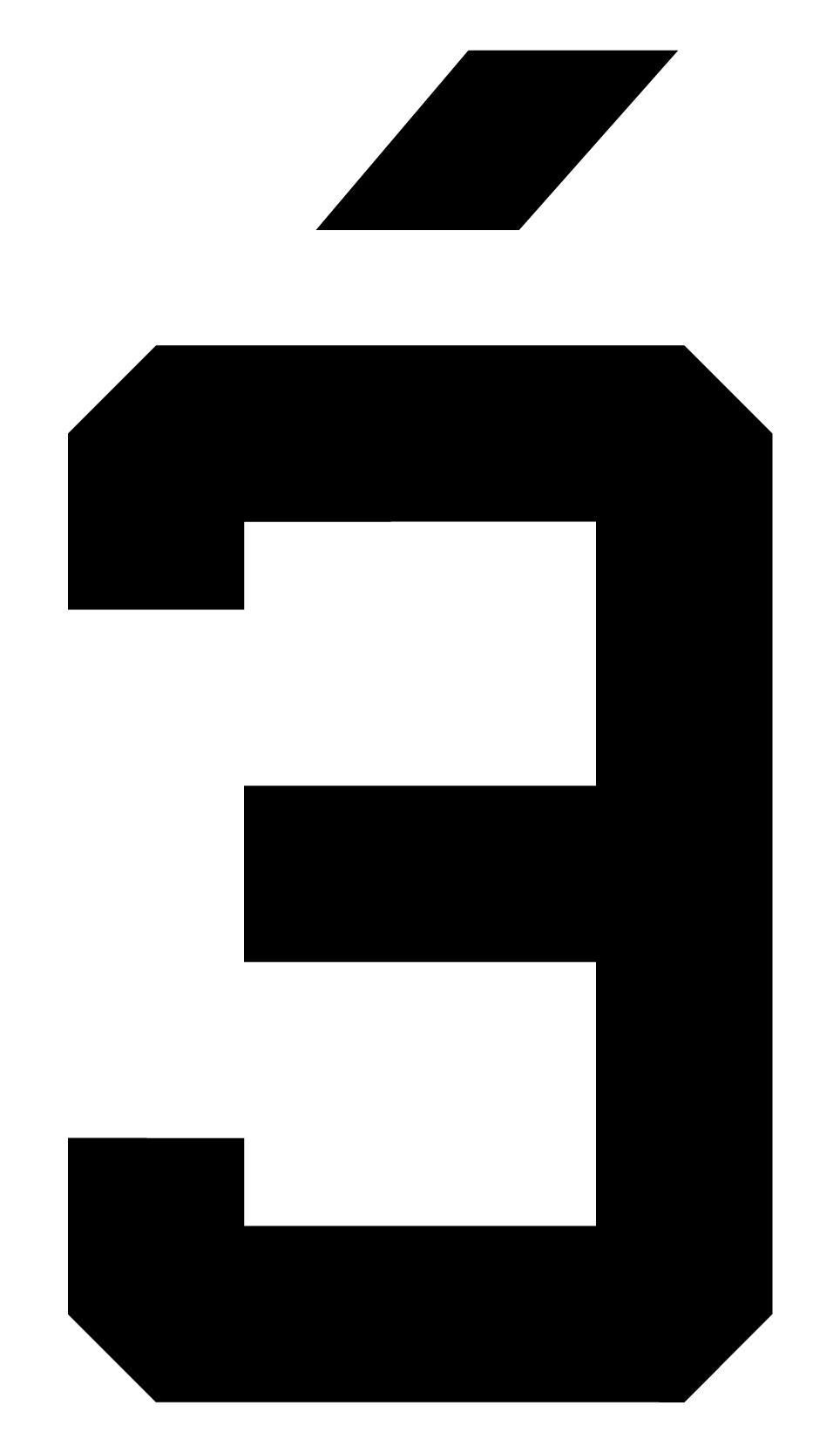Ермек Турсунов:
ПОДМЕНА ЦЕННОСТЕЙ
Правда – это нравственная истина. Кому-то она режет слух, а кому-то нужна, как воздух. Правда ли, что нет пророка в своем отечестве? Чтобы это выяснить, философ и кинокритик встретился с режиссером-консерватором. Специально для Étage Олег Борецкий и Ермек Турсунов побеседовали о свободе и внутренних запретах, религиозном самообмане, новой эстетике, смутном времени и о себе.
ПОДМЕНА ЦЕННОСТЕЙ
Правда – это нравственная истина. Кому-то она режет слух, а кому-то нужна, как воздух. Правда ли, что нет пророка в своем отечестве? Чтобы это выяснить, философ и кинокритик встретился с режиссером-консерватором. Специально для Étage Олег Борецкий и Ермек Турсунов побеседовали о свободе и внутренних запретах, религиозном самообмане, новой эстетике, смутном времени и о себе.
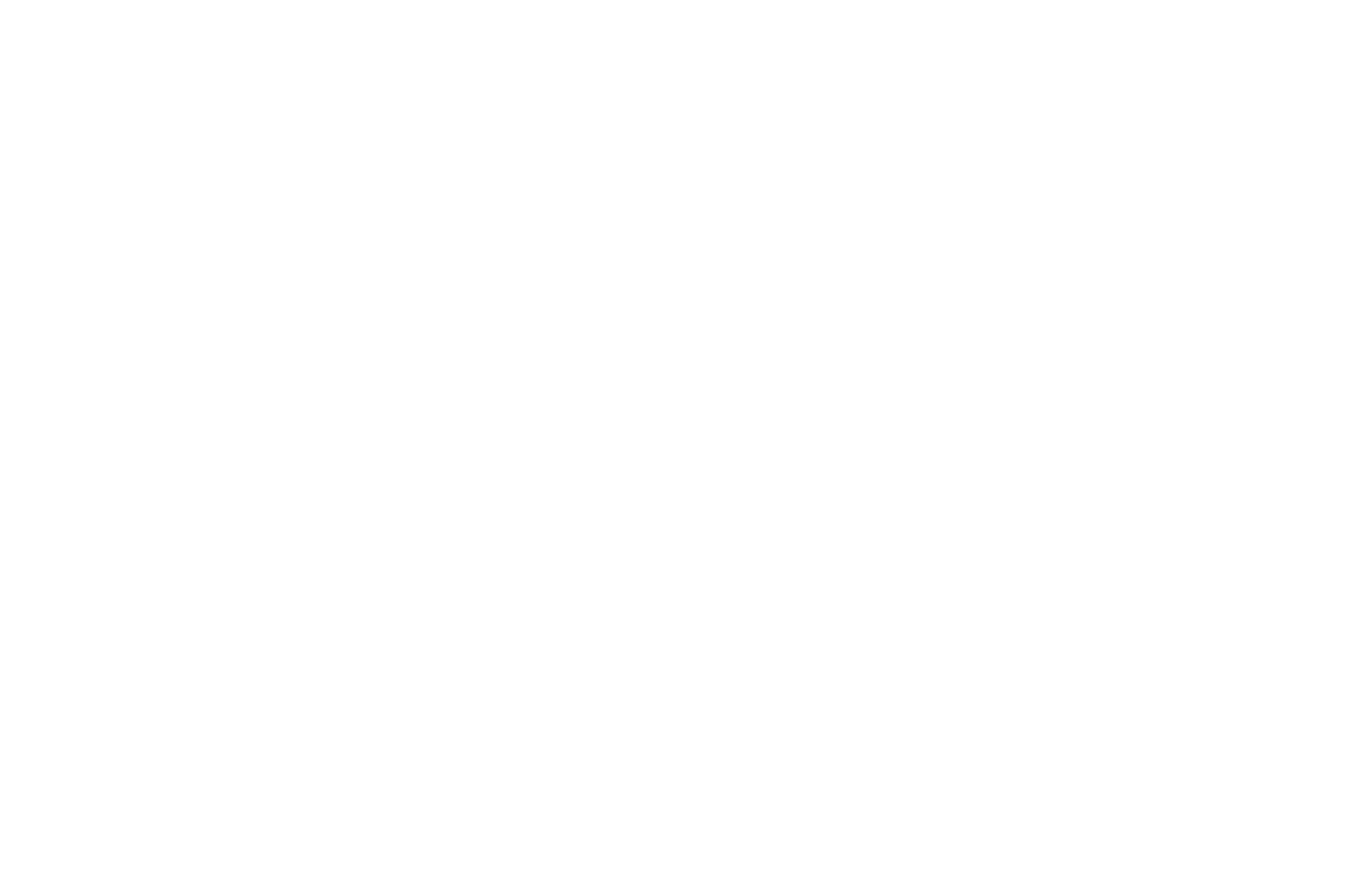
— Журнал называется «Этаж». Не знаю, какое место нам отведут: на первом этаже или на последнем, но хочется поговорить о серьезных и важных вещах. Человек за пределами Казахстана не знает, кто такой Ермек Турсунов. Начинает искать в Гугле. Кстати, ты не гуглил себя?
— Было одно время. Потом надоело.
— А помнишь, однажды я спросил тебя о призах, а ты сказал: « У меня столько этих наград было, что сейчас Оскар в качестве орехокола подойдет». А сейчас, положа руку на сердце, если твоя картина получит «Оскар», что-нибудь изменится?
— Нет, честно говоря, ни «Оскар», ни каннская «Ветвь», ни «Лев», ни «Медведь». Когда уже наездишься, вдруг понимаешь – это ведь не соревнование, не турнир.
— Согласен, кино – это не спорт.
— Одно дело, когда в тебе соревновательный дух. Я таким кино заниматься не хочу. Потому что глупо говорить, что Бетховен лучше, чем Моцарт. Этот принцип не действует в кино, в литературе, в настоящей подлинной музыке. Поэтому, какой «Оскар»? Какая «Пальмовая ветвь»? В Каннах все обклеено постерами с «Безумного Макса», понимаешь? Я понял, акценты-то сменились, люди-то совсем запутались, система координат уже другая. Как Черчилль говорил: «Человек неполноценен, если он начинает, как революционер, но не становится консерватором». Я стал им и понял, что последним нобелевским лауреатом в литературе, которого я читал, был Орхан Памук. С трудом дойдя до середины его нобелевской книги, я отложил ее в сторону, взял томик Чехова и успокоился. Раньше было золото подлинное и проба настоящая, понимаешь? Сейчас пробу научились подделывать, и никто не замечает. А Бертолуччи, Феллини, Пазолини, Куросава, Чехов, Бетховен, Моцарт – насовсем. Даже Шакен Айманов насовсем.
— И тема закрылась?
— Надо себя уважать. Суфии говорили: «Мудрость приходит в дороге». А мы не знаем, куда идем, конечной точки нет. Ты «Оскара» получил, и это твой потолок? Такой низкий? Я не хочу превращать себя в медали, кубки, почетные грамоты от Президента.
— Ты предвосхитил мой следующий вопрос. Какое место в твоем самовыражении занимает зритель?
— Основное. Во-первых, зрителя надо уважать, не принимать его за идиота, говоря: «Посмотри, какая келинка Сабина». Если тебе удобнее разговаривать с ним на этом уровне, ради Бога, можете сесть в круг, захаркать все и разговаривать. Понимаешь, мы ведь не смеемся – мы ржем. Подлинный смех – умный, это юмор Жванецкого, Райкина. Если ты любишь своего зрителя, стараешься для него. Кино – это диалог, тебе хочется поделиться наболевшим. А если ты зрителя не воспринимаешь, считай, памятник при жизни себе поставил, вылил на себя сто тонн бронзы: «Мне не интересно ваше мнение».
А что тогда тебе интересно, кроме тебя самого?
— Было одно время. Потом надоело.
— А помнишь, однажды я спросил тебя о призах, а ты сказал: « У меня столько этих наград было, что сейчас Оскар в качестве орехокола подойдет». А сейчас, положа руку на сердце, если твоя картина получит «Оскар», что-нибудь изменится?
— Нет, честно говоря, ни «Оскар», ни каннская «Ветвь», ни «Лев», ни «Медведь». Когда уже наездишься, вдруг понимаешь – это ведь не соревнование, не турнир.
— Согласен, кино – это не спорт.
— Одно дело, когда в тебе соревновательный дух. Я таким кино заниматься не хочу. Потому что глупо говорить, что Бетховен лучше, чем Моцарт. Этот принцип не действует в кино, в литературе, в настоящей подлинной музыке. Поэтому, какой «Оскар»? Какая «Пальмовая ветвь»? В Каннах все обклеено постерами с «Безумного Макса», понимаешь? Я понял, акценты-то сменились, люди-то совсем запутались, система координат уже другая. Как Черчилль говорил: «Человек неполноценен, если он начинает, как революционер, но не становится консерватором». Я стал им и понял, что последним нобелевским лауреатом в литературе, которого я читал, был Орхан Памук. С трудом дойдя до середины его нобелевской книги, я отложил ее в сторону, взял томик Чехова и успокоился. Раньше было золото подлинное и проба настоящая, понимаешь? Сейчас пробу научились подделывать, и никто не замечает. А Бертолуччи, Феллини, Пазолини, Куросава, Чехов, Бетховен, Моцарт – насовсем. Даже Шакен Айманов насовсем.
— И тема закрылась?
— Надо себя уважать. Суфии говорили: «Мудрость приходит в дороге». А мы не знаем, куда идем, конечной точки нет. Ты «Оскара» получил, и это твой потолок? Такой низкий? Я не хочу превращать себя в медали, кубки, почетные грамоты от Президента.
— Ты предвосхитил мой следующий вопрос. Какое место в твоем самовыражении занимает зритель?
— Основное. Во-первых, зрителя надо уважать, не принимать его за идиота, говоря: «Посмотри, какая келинка Сабина». Если тебе удобнее разговаривать с ним на этом уровне, ради Бога, можете сесть в круг, захаркать все и разговаривать. Понимаешь, мы ведь не смеемся – мы ржем. Подлинный смех – умный, это юмор Жванецкого, Райкина. Если ты любишь своего зрителя, стараешься для него. Кино – это диалог, тебе хочется поделиться наболевшим. А если ты зрителя не воспринимаешь, считай, памятник при жизни себе поставил, вылил на себя сто тонн бронзы: «Мне не интересно ваше мнение».
А что тогда тебе интересно, кроме тебя самого?
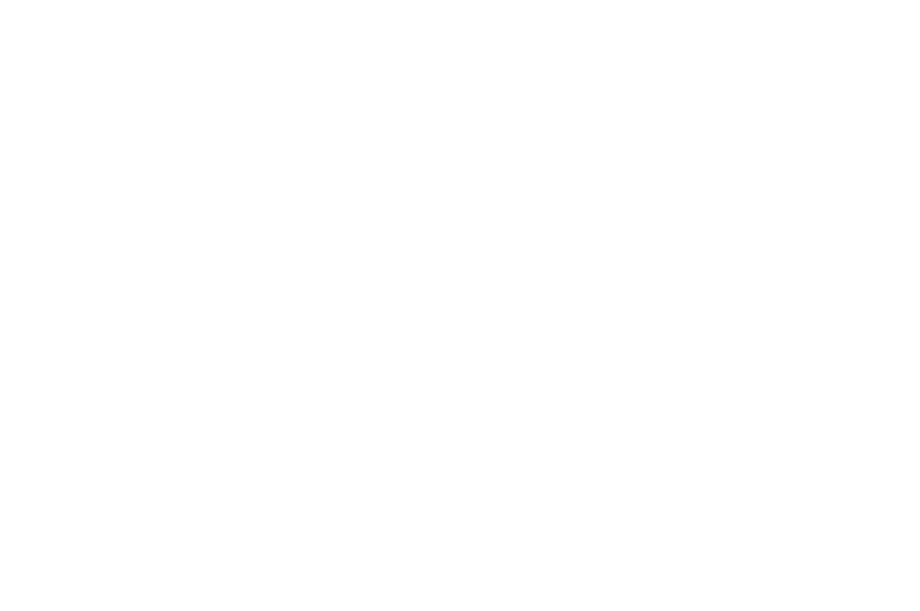
Ермек Турсунов
— О тебе говорят: писатель, сценарист, драматург, режиссер, я бы еще добавил, публицист. Ты себя кем больше ощущаешь?
— Я давным-давно запретил себе жить по заказу. Я себя чувствую трансформатором. Вот идешь по улице – щелчок, мысль – на диктофон наговорил и выключил. Через неделю слушаешь, там одна фраза, предложение. Из этого может вырасти рассказ небольшой, а может и целое кино. Поэтому я себя чувствую абсолютно органично, не заставляю себя, а просто жду сигнала.
— И это определяет стиль твоего ответа.
— Да. Но чтобы, боюсь это слово произносить, заниматься творчеством, надо пройти школу ремесленничества. Потом уже можешь создавать что-то личностное, персональное. Когда начинаешь писать синопсис, сценарий, понимаешь: здесь я вошел на территорию Германа, здесь – Тарковского. Нужно быть очень осторожным, чтобы не впасть в эклектику или вторичность, ведь тогда не будет твоей отличительной формы.
— Я давным-давно запретил себе жить по заказу. Я себя чувствую трансформатором. Вот идешь по улице – щелчок, мысль – на диктофон наговорил и выключил. Через неделю слушаешь, там одна фраза, предложение. Из этого может вырасти рассказ небольшой, а может и целое кино. Поэтому я себя чувствую абсолютно органично, не заставляю себя, а просто жду сигнала.
— И это определяет стиль твоего ответа.
— Да. Но чтобы, боюсь это слово произносить, заниматься творчеством, надо пройти школу ремесленничества. Потом уже можешь создавать что-то личностное, персональное. Когда начинаешь писать синопсис, сценарий, понимаешь: здесь я вошел на территорию Германа, здесь – Тарковского. Нужно быть очень осторожным, чтобы не впасть в эклектику или вторичность, ведь тогда не будет твоей отличительной формы.
«Я всегда боялся быть актуальным, сиюминутным, злободневным. Это слишком примитивно»

— Если говорить о свободе высказывания и творчества, есть для тебя какие-то ограничения?
— Я всегда боялся быть актуальным, сиюминутным, злободневным. Это слишком примитивно.
— И, по сути, конъюнктурно.
— Самое страшное – быть конъюнктурным. Но сейчас это главное определение существования очень многих, кто работает в этом огороде: кто капусту рубит, кто пальмы выращивает и сидит на них. А я-то по минному полю хожу, рискую. Я владею профессией в той мере, которая позволяла бы мне снимать сериалы…
— Рекламу делать.
— На рекламе бы мы вообще могли столько нарубить! Понимаешь? Но риск себя оправдывает. Многие понимают свободу творчества как вседозволенность. И поэтому появляется весь этот шлак. И образцы этой вседозволенности дезориентировали публику читающую, смотрящую и слушающую. Моцарт, как позывной в сотовом телефоне – это же кощунство! Искусство превратилось в жвачку.
— Сегодняшний день мы называем временем фейков, симулякров, фриков, когда псевдо заменяет настоящее. Ты всегда говоришь: «Деление простое — есть кино и не кино, есть музыка и звуки». Но тебе не кажется, что это время уже стало необратимым?
— Я-то понимаю, но… Во-первых, память о мастерах…
— Я всегда боялся быть актуальным, сиюминутным, злободневным. Это слишком примитивно.
— И, по сути, конъюнктурно.
— Самое страшное – быть конъюнктурным. Но сейчас это главное определение существования очень многих, кто работает в этом огороде: кто капусту рубит, кто пальмы выращивает и сидит на них. А я-то по минному полю хожу, рискую. Я владею профессией в той мере, которая позволяла бы мне снимать сериалы…
— Рекламу делать.
— На рекламе бы мы вообще могли столько нарубить! Понимаешь? Но риск себя оправдывает. Многие понимают свободу творчества как вседозволенность. И поэтому появляется весь этот шлак. И образцы этой вседозволенности дезориентировали публику читающую, смотрящую и слушающую. Моцарт, как позывной в сотовом телефоне – это же кощунство! Искусство превратилось в жвачку.
— Сегодняшний день мы называем временем фейков, симулякров, фриков, когда псевдо заменяет настоящее. Ты всегда говоришь: «Деление простое — есть кино и не кино, есть музыка и звуки». Но тебе не кажется, что это время уже стало необратимым?
— Я-то понимаю, но… Во-первых, память о мастерах…
«Время крупных людей ушло безвозвратно. Все мельчает»
— А если Лувр, то Джоконда.
— А помимо Джоконды миллион туристов. Они к ней подходят, поворачиваются задом и фотографируют себя на ее фоне.
— Селфи, «Я и Джоконда».
— Именно! Они идут туда не на нее смотреть, а себя показать. Потом выходят из музея, садятся покушать французских улиток, тоже фотографируют. Это тотальное поражение по всем фронтам. Времена изменились, акценты сместились. Я трепетно отношусь к тому, что делаю. Речь о свободе. Цензура должна быть, но не политическая, а внутренняя. Честность — твой главный цензор.
— Шесть твоих фильмов (один, к сожалению, не вышел) аллегоричны, в них нет конкретной предметности, которая многих привлекает в твоих лекциях и публицистических текстах. В них ты называешь вещи своими именами, срываешь маски, стираешь глянец и гламур, которого у нас предостаточно. Почему людям это так интересно? Истосковались по правде?
— Мне многие говорят об этом. Серьезные, умные люди, политики. Один олигарх вообще выдал: «Тебе терять нечего, вот ты и говоришь». Нет, это не потому, что я такой смелый. Я ведь не чужой, я живу здесь. Когда сталкиваешься с правдой жизни, говоришь об этом с болью в сердце. Вон, дома тонут, которые люди полжизни отстраивали. Или девочка плакала: «Я не могу пойти в школу, потому что учебники мокрые». Это физические, простые, живые истории, которые выливаются в кровоточащий материал. Я не умею жить отстраненно. Если бы умел, давно остался бы в Америке, все там было замечательно с точки зрения комфорта и энергозатрат.
— Одна из твоих последних статей, «За макияжем не видно лица Родины», как всегда, лаконична и точна. Для тебя Родина и патриотизм что значат?
— Очень многие слова потеряли изначальный смысл из-за частого и ненужного их употребления. Это все равно что «Нагорную проповедь» прочитал бы не Иисус, а Жириновский. О нравственности должны рассуждать люди, имеющие на это право, кто заслужил говорить формой и стилем своей жизни. А когда говорят о патриотизме, меня начинает передергивать. Или о народе, интересах народа…
— Ты как-то сказал, что у нас не народ, а население. Получается, как у Конфуция: самое важное, с чего надо начинать — это «Исправление имен».
— Все наши важные определения заникированы. Поэтому я боюсь «национальной гордости», «самоопределения», «независимости», «духа» и тому подобных слов, их в речи надо употреблять поменьше.
— Но я ловлю тебя на слове. Однажды ты сказал: «Есть национальная гордость, а есть национальные комплексы, и часто одно подменяет другое».
— Я согласен. Как невысокие люди стараются носить обувь на каблуках, так и мы ходим на невидимых ходулях. Сегодня мы самообманываемся и не можем объяснить друг другу ничего. А те, кто мог бы, уже молчат. Как у Губермана: «Блажен тот, в ком достаточно мужества на дудочке тихо играть». На мои фильмы двери не ломают, аншлаги редко случаются, кроме лекций. Люди изголодались по альтернативной информации, им хочется услышать спокойное и рассудительное слово. Сейчас ведь не осталось СМИ. Это не журналистика, а пропаганда.
— А ты как считаешь, совесть нации – это пафосное выражение, или такие люди крайне необходимы?
— Бельгер Герольд Карлович был последней «совестью нации». Я общался с ним 33 года. И за это время был свидетелем его слов и поступков, которые доказывали, что этот человек в ладу со своей совестью. Так вот, как правило, это беспокойное состояние. А какая нация, такая и совесть. Мы заслуживаем того правителя, которого имеем. Помнишь, когда на Дубровке в Москве произошел террористический акт, на переговоры позвали не Путина и не представителя власти, а детского врача…
— Это был Леонид Рошаль.
— Да-да. В обычной жизни его не видно, не слышно. Жизнь сама выталкивает таких людей, они не занимаются никаким пиаром и промоушеном. Вся их жизнь говорит за себя.
— Ты пишешь: «Главная проблема сегодня – отсутствие морали. Ее попросту нет. У нас не осталось даже дворовых понятий. Поэтому люди потянулись в мечети. Там они борются со своими страхами итревогами. Там они ищут спасение. Там их ждет тот, кому они еще способны верить. Вера в какой-то мереи есть –психотерапия». Что ты думаешь по поводу религии в нашем обществе?
— Я думаю, что люди устали. Они ищут информацию, достоверность которой проверена веками. Это естественный процесс, когда люди ищут Бога в безбожные времена. А сейчас сатанинское время, и Бог стал разменной монетой. Как мне говорили недавно: «Слава Аллаху, Иисус воскрес» (смеется) Люди ищут успокоения. Еще, им нужна исповедь. Человек не может пойти в прокуратуру за исповедью, его не так поймут. А Бог все вытерпит, он как бумага. И люди не очень это понимают, но диалог с Богом – это, прежде всего, разговор с самим собой. Сейчас настало время исповеди и поиска себя. Бог живет внутри человека. Но в святилищах его не осталось, там ритуал и внешние атрибуты: позолота, колонны, купола, медресе. Содержание утеряно. Людской поиск истины начался из-за информационного голода, но плохо, что есть поводыри, посредники в любой религии.
— А помимо Джоконды миллион туристов. Они к ней подходят, поворачиваются задом и фотографируют себя на ее фоне.
— Селфи, «Я и Джоконда».
— Именно! Они идут туда не на нее смотреть, а себя показать. Потом выходят из музея, садятся покушать французских улиток, тоже фотографируют. Это тотальное поражение по всем фронтам. Времена изменились, акценты сместились. Я трепетно отношусь к тому, что делаю. Речь о свободе. Цензура должна быть, но не политическая, а внутренняя. Честность — твой главный цензор.
— Шесть твоих фильмов (один, к сожалению, не вышел) аллегоричны, в них нет конкретной предметности, которая многих привлекает в твоих лекциях и публицистических текстах. В них ты называешь вещи своими именами, срываешь маски, стираешь глянец и гламур, которого у нас предостаточно. Почему людям это так интересно? Истосковались по правде?
— Мне многие говорят об этом. Серьезные, умные люди, политики. Один олигарх вообще выдал: «Тебе терять нечего, вот ты и говоришь». Нет, это не потому, что я такой смелый. Я ведь не чужой, я живу здесь. Когда сталкиваешься с правдой жизни, говоришь об этом с болью в сердце. Вон, дома тонут, которые люди полжизни отстраивали. Или девочка плакала: «Я не могу пойти в школу, потому что учебники мокрые». Это физические, простые, живые истории, которые выливаются в кровоточащий материал. Я не умею жить отстраненно. Если бы умел, давно остался бы в Америке, все там было замечательно с точки зрения комфорта и энергозатрат.
— Одна из твоих последних статей, «За макияжем не видно лица Родины», как всегда, лаконична и точна. Для тебя Родина и патриотизм что значат?
— Очень многие слова потеряли изначальный смысл из-за частого и ненужного их употребления. Это все равно что «Нагорную проповедь» прочитал бы не Иисус, а Жириновский. О нравственности должны рассуждать люди, имеющие на это право, кто заслужил говорить формой и стилем своей жизни. А когда говорят о патриотизме, меня начинает передергивать. Или о народе, интересах народа…
— Ты как-то сказал, что у нас не народ, а население. Получается, как у Конфуция: самое важное, с чего надо начинать — это «Исправление имен».
— Все наши важные определения заникированы. Поэтому я боюсь «национальной гордости», «самоопределения», «независимости», «духа» и тому подобных слов, их в речи надо употреблять поменьше.
— Но я ловлю тебя на слове. Однажды ты сказал: «Есть национальная гордость, а есть национальные комплексы, и часто одно подменяет другое».
— Я согласен. Как невысокие люди стараются носить обувь на каблуках, так и мы ходим на невидимых ходулях. Сегодня мы самообманываемся и не можем объяснить друг другу ничего. А те, кто мог бы, уже молчат. Как у Губермана: «Блажен тот, в ком достаточно мужества на дудочке тихо играть». На мои фильмы двери не ломают, аншлаги редко случаются, кроме лекций. Люди изголодались по альтернативной информации, им хочется услышать спокойное и рассудительное слово. Сейчас ведь не осталось СМИ. Это не журналистика, а пропаганда.
— А ты как считаешь, совесть нации – это пафосное выражение, или такие люди крайне необходимы?
— Бельгер Герольд Карлович был последней «совестью нации». Я общался с ним 33 года. И за это время был свидетелем его слов и поступков, которые доказывали, что этот человек в ладу со своей совестью. Так вот, как правило, это беспокойное состояние. А какая нация, такая и совесть. Мы заслуживаем того правителя, которого имеем. Помнишь, когда на Дубровке в Москве произошел террористический акт, на переговоры позвали не Путина и не представителя власти, а детского врача…
— Это был Леонид Рошаль.
— Да-да. В обычной жизни его не видно, не слышно. Жизнь сама выталкивает таких людей, они не занимаются никаким пиаром и промоушеном. Вся их жизнь говорит за себя.
— Ты пишешь: «Главная проблема сегодня – отсутствие морали. Ее попросту нет. У нас не осталось даже дворовых понятий. Поэтому люди потянулись в мечети. Там они борются со своими страхами итревогами. Там они ищут спасение. Там их ждет тот, кому они еще способны верить. Вера в какой-то мереи есть –психотерапия». Что ты думаешь по поводу религии в нашем обществе?
— Я думаю, что люди устали. Они ищут информацию, достоверность которой проверена веками. Это естественный процесс, когда люди ищут Бога в безбожные времена. А сейчас сатанинское время, и Бог стал разменной монетой. Как мне говорили недавно: «Слава Аллаху, Иисус воскрес» (смеется) Люди ищут успокоения. Еще, им нужна исповедь. Человек не может пойти в прокуратуру за исповедью, его не так поймут. А Бог все вытерпит, он как бумага. И люди не очень это понимают, но диалог с Богом – это, прежде всего, разговор с самим собой. Сейчас настало время исповеди и поиска себя. Бог живет внутри человека. Но в святилищах его не осталось, там ритуал и внешние атрибуты: позолота, колонны, купола, медресе. Содержание утеряно. Людской поиск истины начался из-за информационного голода, но плохо, что есть поводыри, посредники в любой религии.
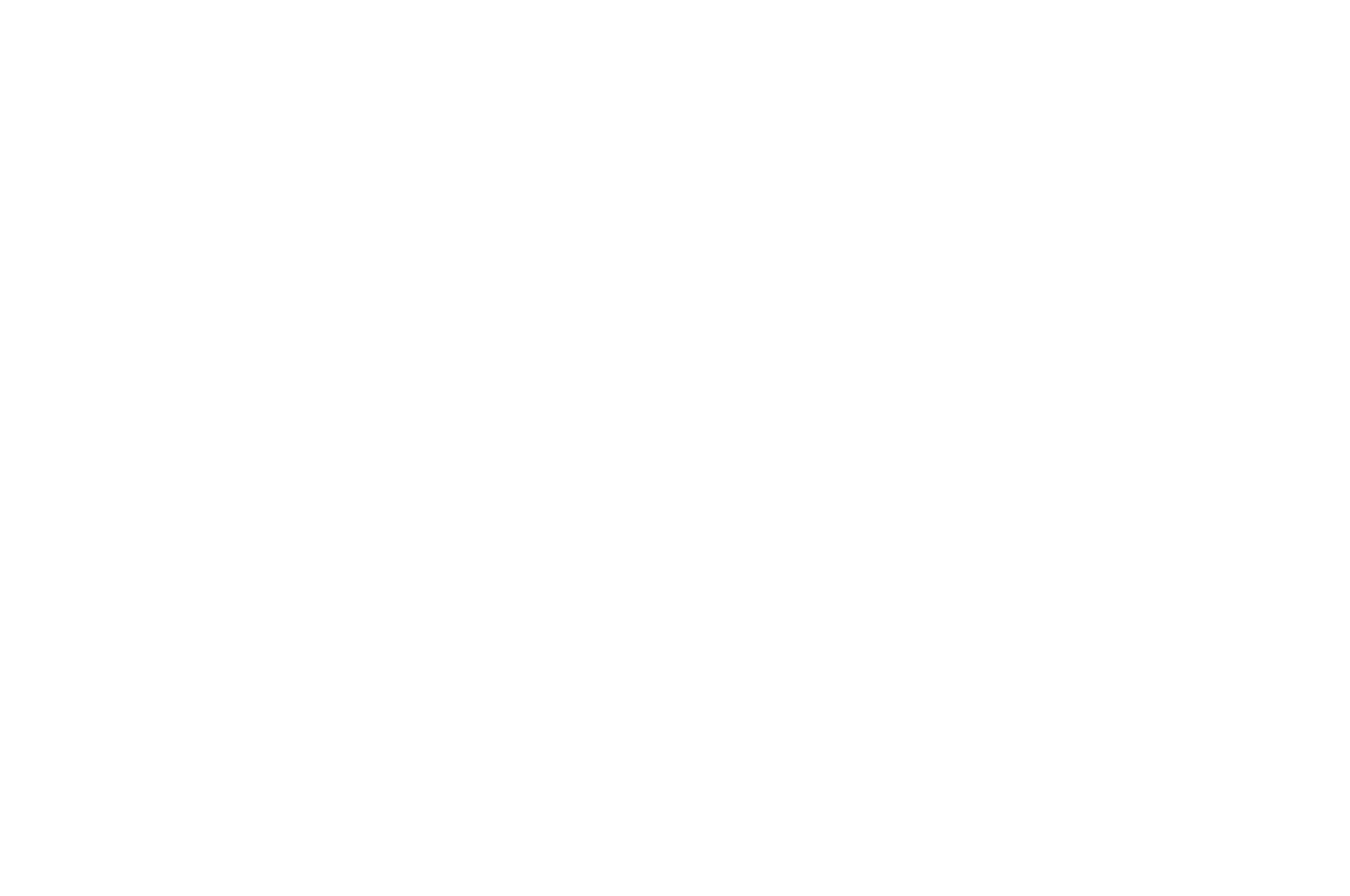
— Согласен. Вернемся к вопросу о кино. Ты сказал: «Собственно «кина» больше не осталось как искусства. Вместо него – идеологические плакаты, заказные панегирики, второсортное обезьянничание малообразованных дарований и попкорновая чушь». Что совсем ничего нет? Ты вообще своих коллег смотришь?
— Случается, я их специально не отслеживаю. Ну, есть же Звягинцев в России, например.
— Кстати, Звягинцев тебе созвучен по части гордости. Помню его слова: «Горжусь тем, что ничем не горжусь, просто нечем гордиться».
— Так и сказал? У меня примерно те же ощущения. Хочется обрадоваться, я же нормальный человек, но нечему. Вот сегодня, например, в интернете нашел Сергея Лемешева и его «Одинокую гармонь», сразу такое просветление!
— Случается, я их специально не отслеживаю. Ну, есть же Звягинцев в России, например.
— Кстати, Звягинцев тебе созвучен по части гордости. Помню его слова: «Горжусь тем, что ничем не горжусь, просто нечем гордиться».
— Так и сказал? У меня примерно те же ощущения. Хочется обрадоваться, я же нормальный человек, но нечему. Вот сегодня, например, в интернете нашел Сергея Лемешева и его «Одинокую гармонь», сразу такое просветление!
«Речь о свободе. Цензура должна быть, но не политическая, а внутренняя. Честность – твой главный цензор»»
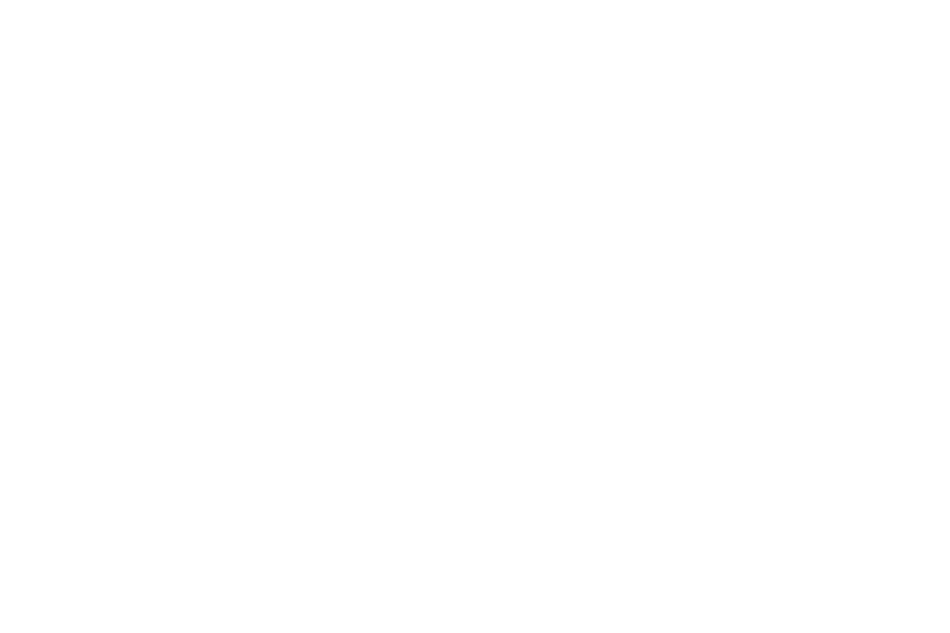
— Согласись, это все-таки хорошо, что мы живем в эру свободной информации. Но другое дело, что никто тебя не направит, не подскажет, где настоящее.
— О чем и речь. Поэтому-то я и открыл киноклуб в Национальной библиотеке, фильмы показываю старые. В этом году, например, 80 лет Асанали Ашимову. Надо ведь прикоснуться к этому искусству живьем, пока есть возможность. Люди, которые чувствуют это настоящее, приходят. К тому же это все бесплатно.
— Я помню, как журналисты год назад после кинофестиваля «Евразия» проявили завидный интерес к «партизанскому кино». Ты к нему как относишься?
— Я знаю этих партизанов. (смеется) Кто такие «партизаны» по определению? Разрушители, которые прячутся в лесах
— Подрывную деятельность ведут…
— Минируют рельсы, пускают паровозы под откос. У нас много этих паровоз уже собралось под откосом. К этому я не могу относиться серьезно, поскольку они проповедуют фильмы без бюджета, протестные настроения. Во-первых, людям надо платить. Если это сильные специалисты, им надо хорошо платить. И потом, дешевое всегда выглядит дешевым, и наоборот. С другой стороны, это тоже попытка обратить на себя внимание. Я уверен, если завтра их позовут в кино с хорошим бюджетом, все их партизанское движение на этом и закончится. Это ведь не принципиальное идейное дело.
— А то, что они за поиск кино языка и за честность?
— Не в первый раз ведь. Были уже поиски киноязыка, например, когда снимали фильмы без сценария. Они за эксперименты, а я в этом смысле консервативен, ни с кем не борюсь, ничего не декларирую, назойливо не отстаиваю, под флагами не работаю.
— Ты пишешь, что наше будущее в прошлом и наше поколение свою «миссию»выполнило. А новое поколение может переродиться?
— Может, когда-нибудь, но в моей жизни это уже не случится, времени мало.
— Власть предлагает вспомнить культурный код нации. Ты что об этом думаешь?
— У казахов есть выражение: «Елy жылда ел жаңа», в переводе: «За пятьдесят лет народ обновляется». У нас за четверть века лет он обновился, теперь это другая нация, промежуточная, уже не казахи, и еще не кто-то другой. Я где-то писал, что ладно, украли, попрятали в оффшоры… Не в этом горе. Страшно то, что люди стали думать по-другому. Необратимый процесс запущен. Поэтому я и говорю, что ресурсов моей и твоей жизни не хватит. Может, однажды, но я не могу гарантировать, я не Нострадамус.
— Вот на этой оптимистической ноте... (смеются) É
— О чем и речь. Поэтому-то я и открыл киноклуб в Национальной библиотеке, фильмы показываю старые. В этом году, например, 80 лет Асанали Ашимову. Надо ведь прикоснуться к этому искусству живьем, пока есть возможность. Люди, которые чувствуют это настоящее, приходят. К тому же это все бесплатно.
— Я помню, как журналисты год назад после кинофестиваля «Евразия» проявили завидный интерес к «партизанскому кино». Ты к нему как относишься?
— Я знаю этих партизанов. (смеется) Кто такие «партизаны» по определению? Разрушители, которые прячутся в лесах
— Подрывную деятельность ведут…
— Минируют рельсы, пускают паровозы под откос. У нас много этих паровоз уже собралось под откосом. К этому я не могу относиться серьезно, поскольку они проповедуют фильмы без бюджета, протестные настроения. Во-первых, людям надо платить. Если это сильные специалисты, им надо хорошо платить. И потом, дешевое всегда выглядит дешевым, и наоборот. С другой стороны, это тоже попытка обратить на себя внимание. Я уверен, если завтра их позовут в кино с хорошим бюджетом, все их партизанское движение на этом и закончится. Это ведь не принципиальное идейное дело.
— А то, что они за поиск кино языка и за честность?
— Не в первый раз ведь. Были уже поиски киноязыка, например, когда снимали фильмы без сценария. Они за эксперименты, а я в этом смысле консервативен, ни с кем не борюсь, ничего не декларирую, назойливо не отстаиваю, под флагами не работаю.
— Ты пишешь, что наше будущее в прошлом и наше поколение свою «миссию»выполнило. А новое поколение может переродиться?
— Может, когда-нибудь, но в моей жизни это уже не случится, времени мало.
— Власть предлагает вспомнить культурный код нации. Ты что об этом думаешь?
— У казахов есть выражение: «Елy жылда ел жаңа», в переводе: «За пятьдесят лет народ обновляется». У нас за четверть века лет он обновился, теперь это другая нация, промежуточная, уже не казахи, и еще не кто-то другой. Я где-то писал, что ладно, украли, попрятали в оффшоры… Не в этом горе. Страшно то, что люди стали думать по-другому. Необратимый процесс запущен. Поэтому я и говорю, что ресурсов моей и твоей жизни не хватит. Может, однажды, но я не могу гарантировать, я не Нострадамус.
— Вот на этой оптимистической ноте... (смеются) É
Interview: Олег Борецкий
Photography: Дамир Отеген
Date: May, 2017
Photography: Дамир Отеген
Date: May, 2017